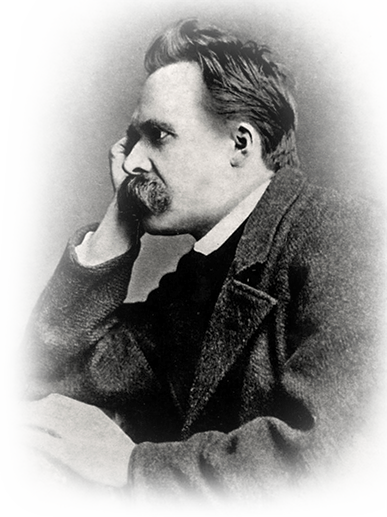[MA-WS-23]
Имеют ли право наказывать приверженцы учения о свободе...
Имеют ли право наказывать приверженцы учения о свободе воли? — Люди, которые осуждают и наказывают в силу своей профессии, в каждом таком случае пытаются установить, несёт ли вообще преступник ответственность за своё злодеяние, мог ли он действовать разумно, руководствуясь какими-либо основаниями — или же действовал бессознательно либо под принуждением. Если его наказывают, то наказывают за то, что худшие основания он предпочёл лучшим: стало быть, он должен был их знать. Там, где такого знания нет, человек, согласно господствующему воззрению, несвободен и невменяем: но допустим, что его незнание, скажем, ignorantia legis, есть следствие преднамеренного нежелания знать; тогда, значит, он предпочитал худшие основания лучшим уже в то время, когда не желал узнать то, что должен был узнать, а теперь обязан поплатиться последствиями своего неверного выбора. Но вот если он не понимал этих лучших оснований, скажем, по тупоумию или идиотизму, то его обычно не наказывают: у него, как говорят в таком случае, не было выбора, он действовал, как животное. Умышленный отказ от благонамеренной разумности поступка — критерий, с которым подходят нынче к подлежащим наказанию преступникам. Но каким образом кто-то может быть умышленно более неразумным, чем должен быть? Откуда берётся его решение, когда на чашах весов лежат хорошие и плохие мотивы? Значит, не из заблуждения, не из слепоты, не из внешнего, а также и не из внутреннего принуждения (кстати, подумаем о том, что любое так называемое «внешнее принуждение» — это не что иное, как внутреннее принуждение посредством страха и боли). Так откуда же (спрашивают снова и снова)? Значит, дело, видимо, не в разуме, если он и не мог выбрать лучшие основания? Вот тут-то и призывают на помощь «свободную волю»: выбирает, должно быть, полный произвол, наступает, видимо, момент, когда не действует никакой мотив, когда деяние происходит чудесным образом, из ничего. В случае, где не должно быть никакого произвола — ведь разум, осведомлённый о законе, о запрещённом и разрешённом, не мог, как полагают, оставить никакого выбора, а должен был сработать как принуждение и высшая власть, — наказывают эту мнимую произвольность. Стало быть, преступника наказывают, потому что он воспользовался «свободной волей», то есть потому что действовал без оснований, хотя должен был действовать на каких-то основаниях. Но почему же он это сделал? Вот об этом-то нельзя даже и спрашивать: это был поступок без «потому», без мотива, без истории, нечто бесцельное и бессмысленное. — Но за такой поступок, согласно первому из упомянутых условий всякой наказуемости, даже нельзя наказывать! Нельзя признать и такой вид наказуемости, который предполагает, будто тут что-то не было сделано, что-то не исполнено, а разум не был использован; ведь неисполнение в любом случае произошло без умысла, а наказуемым считается только умышленное неисполнение требований закона. Преступник действительно предпочёл плохие основания хорошим, но без основания и умысла; он действительно не воспользовался своим разумом, но не для того, чтобы им не пользоваться. Критерий, по которому оценивают наказуемость преступника — умышленный отказ от разумности поступка, — как раз он-то и упраздняется гипотезой «свободной воли». Приверженцы учения о «свободной воле», вы не имеете права наказывать — согласно своим же собственным принципам! — А эти принципы — в сущности, не что иное, как очень странная понятийная мифология; курица же, которая её высидела, сидела на своих яйцах в стороне от всякой реальности.